
Три маленьких клочка земли посреди вод Псковского озера — Талабские острова. Один из них, остров Талабск (Залит), полностью застроен от берега до берега; на другом, острове Верхнем (имени Белова), — небольшая деревенька; третий, Талабенец, безлюден.
Остров Верхний — самый большой по площади среди Талабских островов. Правда, рыбаки здесь почти не жили: остров был покрыт густым лесом. Такие уединенные и дикие места издавна привлекали русских иноков. По преданию, в 1470 году на острове преподобным Досифеем Верхнеостровским, учеником преподобного Евфросина Псковского, начальника всех псковских пустынножителей, был основан мужской монастырь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Однако в 1482 году подвижник скончался и был захоронен под алтарем Петропавловского храма в пещерной церкви. Там и ныне, по преданию, под спудом покоятся его святые мощи. Память преподобного Досифея Верхнеостровского совершается 8 (21) октября.

Крест на месте высадки на остров святого Досифея Верхнеостровского
В 1584 году из-за малого количества братии монастырь был приписан к Псково-Печерскому монастырю, а после издания «Духовного регламента» от 1616 года — к Архиерейскому дому.
Во время Северной войны, в 1703 году монастырь был уничтожен шведами, но спустя 7 лет его полностью восстановили. В 1764 году обитель была упразднена. Церковь была превращена в приходскую и вновь приписана к Псково-Печерскому монастырю. В начале XIX века на острове Белова проживало около 2000 человек.
В 1895 году учреждено церковно-приходское попечительство. В 1900 году в приходе было 910 прихожан, а в 1910 году при нем открыта земская школа, в которой обучались 50 детей.
Так же известно, что до 1917 года на острове находилась небольшая община женщин-пустынниц. Они жили на острове в разных концах, не общаясь друг с другом. По преданию, у них не было ни домов, ни келий – жили в землянках, расселинах. Раз в году, на Пасху, к ним приезжал священник со Святыми Дарами. Пустынницы исповедовались, приобщались Святых Даров и снова расходились для уединенного жительства. После 1917 года пустынниц вывезли на материк, что с ними стало в дальнейшем — неизвестно.
Некоторые сведения сохранились только об одной схимонахине Анастасии, уроженке Псковской губернии. После того, как всех вывезли с острова, она жила в деревне Болчино Порховского уезда (ныне Дедовичский район) у добросердечных крестьян. Матушка Анастасия непрестанно пребывала в посте и молитве, по четкам творила Иисусову молитву. Так прожила она 10 лет. Когда гонения на верующих немного приутихли, она поселилась в отдельном домике. К ней ходили люди за советом, утешением, просили молиться за них.
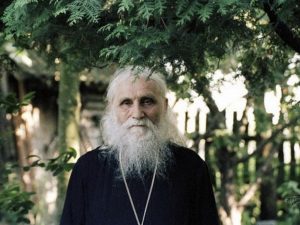 В 20-е годы XX века в церкви на острове Верхний служил игумен Антоний. О нем известно, что в миру его звали Алексей Иванович Лучкин, родился в 1874 году в деревне Самолва Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, в семье рыбаков. Он учился в монастырской школе на Валааме, там же принял монашество с именем Антоний. 8 апреля 1928 года игумен Антоний был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при ОГПУ приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. В лагере отец Антоний завоевал авторитет не только среди заключенных, но и среди начальства. После выхода на свободу он не имел права вернуться в родные края, только тайно приезжал в Самолву. Бывая в родных краях, он стал одного из мальчиков обучать пономарить. Мальчик этот – будущий подвижник благочестия протоиерей Николай Гурьянов. Впоследствии старец Николай Гурьянов всегда вспоминал своего наставника с большой любовью.
В 20-е годы XX века в церкви на острове Верхний служил игумен Антоний. О нем известно, что в миру его звали Алексей Иванович Лучкин, родился в 1874 году в деревне Самолва Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, в семье рыбаков. Он учился в монастырской школе на Валааме, там же принял монашество с именем Антоний. 8 апреля 1928 года игумен Антоний был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при ОГПУ приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. В лагере отец Антоний завоевал авторитет не только среди заключенных, но и среди начальства. После выхода на свободу он не имел права вернуться в родные края, только тайно приезжал в Самолву. Бывая в родных краях, он стал одного из мальчиков обучать пономарить. Мальчик этот – будущий подвижник благочестия протоиерей Николай Гурьянов. Впоследствии старец Николай Гурьянов всегда вспоминал своего наставника с большой любовью.
Для установления советской власти на островах большевистским правительством были посланы два комиссара: товарищ Залит и товарищ Белов. Неизвестно, какими способами они пытались подчинить вольнолюбивый рыбачий люд Советам, только рыбаки утопили комиссаров в Псковском озере. Но власть все-таки укрепилась на островах и в назидание островитянам дала их островам имена погибших комиссаров: остров Талабск был переименован в Залит, а Верхний — по имени Белова. Лишь крошечный и необитаемый Талабенец сохранил свое древнее имя. Новые имена, правда, не слишком привились, так что и жители, и официальные документы, и краеведческая литература называет острова то исконными их именами, то ново названными.
В советские годы церковь использовалась под склад, при этом медленно разрушалась. Зато на острове, жители которого во все времена занимались рыболовством, процветало рыболовецкое хозяйство, функционировал маленький рыболовецкий завод, где производилась сушка снетка.
В 1990 году Петропавловский храм был официально передан церкви. В 1994 году здесь были начаты восстановительные работы. Храм освятил старец Николай Гурьянов, прибывший сюда с соседнего острова. Затем сюда потянулись помощники-добровольцы, также помогавшие в восстановлении храма.

Когда велось восстановление храма, и разбирались горы мусора, совершенно случайно была найдена сохранившаяся подземная церковь, датированная XV веком. И именно в этом приделе после реконструкции состоялось первое богослужение.
Первый настоятель храма иерей Сергий Демидов, служил здесь по благословению старца Николая Гурьянова с 2000 года до своей кончины в 2021 году.

Храм на момент реставрации в 2005 году
Храм выполнен из известняковой плиты и кирпича. До наших дней сохранился одноапсидный, бесстолпный четверик и вход в подцерковье из алтаря. Шатровая колокольня, притвор и алтарь были перестроены в 1862 году. Один придел полностью восстановлен, два придела еще реставрируются. Резной иконостас, выполненный из дерева и отличающийся необыкновенной красотой, не сохранился.
Кроме храма Петра и Павла на острове можно увидеть поклонный крест, установленный местными жителями во имя преподобного Досифея и находящийся совсем недалеко, в пяти минутах ходу от церкви. Некогда здесь находился скит. В скиту располагалась Успенская церковь и келья Досифея.
Богослужения в храме Петра и Павла проводятся по престольным, великим и двунадесятым праздникам, а также в воскресные дни в летнее время.
Адрес: Псковская область, остров имени Белова (остров Верхний)
Настоятель храма: иерей Михаил Буценка
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club220605217














